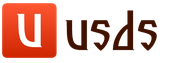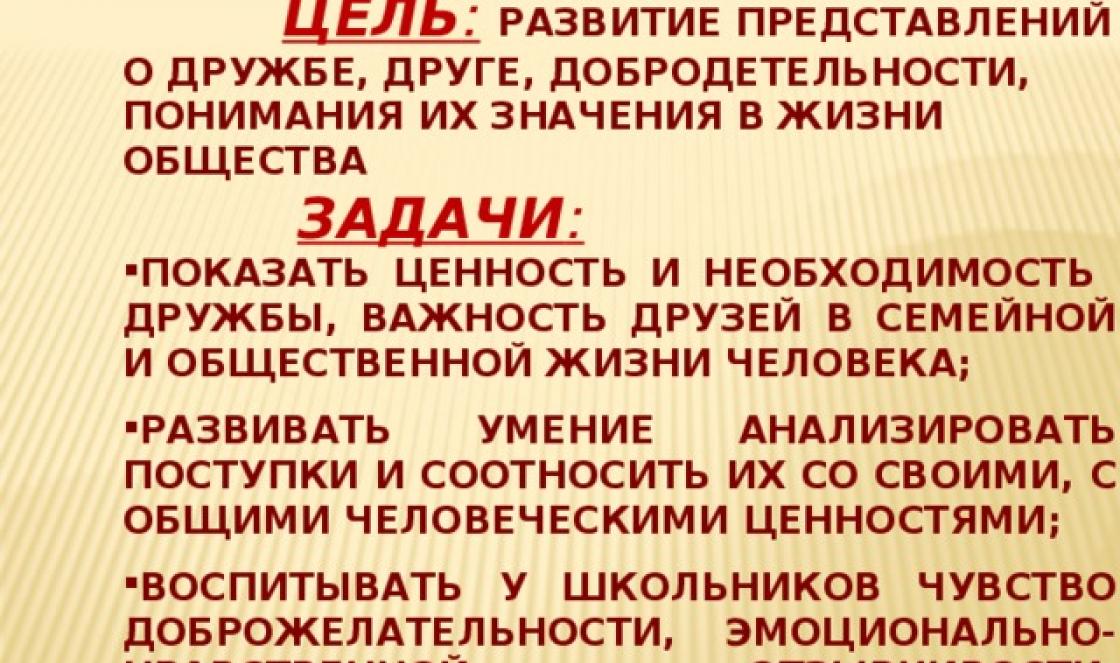Из Марциала
Нынче ветрено и волны с перехлестом.
Скоро осень, все изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемена у подруги.
Дева тешит до известного предела -
дальше локтя не пойдешь или колена.
Сколь же радостней прекрасное вне тела:
ни объятья невозможны, ни измена!
___
Посылаю тебе, Постум, эти книги.
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?
Все интриги, вероятно, да обжорство.
Я сижу в своем саду, горит светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных -
лишь согласное гуденье насекомых.
___
Здесь лежит купец из Азии. Толковым
был купцом он - деловит, но незаметен.
Умер быстро - лихорадка. По торговым
он делам сюда приплыл, а не за этим.
Рядом с ним - легионер, под грубым кварцем.
Он в сражениях империю прославил.
Сколько раз могли убить! а умер старцем.
Даже здесь не существует, Постум, правил.
___
Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.
И от Цезаря далеко, и от вьюги.
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Говоришь, что все наместники - ворюги?
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.
___
Этот ливень переждать с тобой, гетера,
я согласен, но давай-ка без торговли:
брать сестерций с покрывающего тела -
все равно что дранку требовать от кровли.
Протекаю, говоришь? Но где же лужа?
Чтобы лужу оставлял я - не бывало.
Вот найдешь себе какого-нибудь мужа,
он и будет протекать на покрывало.
___
Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
"Мы, оглядываясь, видим лишь руины".
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.
Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.
Разыщу большой кувшин, воды налью им...
Как там в Ливии, мой Постум, - или где там?
Неужели до сих пор еще воюем?
___
Помнишь, Постум, у наместника сестрица?
Худощавая, но с полными ногами.
Ты с ней спал еще... Недавно стала жрица.
Жрица, Постум, и общается с богами.
Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.
Или сливами. Расскажешь мне известья.
Постелю тебе в саду под чистым небом
и скажу, как называются созвездья.
___
Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,
долг свой давний вычитанию заплатит.
Забери из-под подушки сбереженья,
там немного, но на похороны хватит.
Поезжай на вороной своей кобыле
в дом гетер под городскую нашу стену.
Дай им цену, за которую любили,
чтоб за ту же и оплакивали цену.
___
Зелень лавра, доходящая до дрожи.
Дверь распахнутая, пыльное оконце,
стул покинутый, оставленное ложе.
Ткань, впитавшая полуденное солнце.
Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке - Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.
Март 1972
Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал в партере китайским веером,
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.
Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и к финикам,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.
Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною.
Повезло и тебе: где еще, кроме разве что фотографии,
ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива?
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии.
Я курю в темноте и вдыхаю гнилье отлива.
Голландия есть плоская страна,
переходящая в конечном счете в море,
которое и есть, в конечном счете,
Голландия. Непойманные рыбы,
беседуя друг с дружкой по-голландски,
убеждены, что их свобода - смесь
гравюры с кружевом. В Голландии нельзя
подняться в горы, умереть от жажды;
еще трудней - оставить четкий след,
уехав из дому на велосипеде,
уплыв - тем более. Воспоминанья -
Голландия. И никакой плотиной
их не удержишь. В этом смысле я
живу в Голландии уже гораздо дольше,
чем волны местные, катящиеся вдаль
без адреса. Как эти строки.
Рождественский романс
Евгению Рейну, с любовью
Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.
Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.
Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.
Плывет во мгле замоскворецкой,
пловец в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый Год, под воскресенье,
плывет красотка записная,
своей тоски не объясняя.
Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних,
и пахнет сладкою халвою;
ночной пирог несет сочельник
над головою.
Твой Новый Год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
С точки зрения воздуха, край земли
всюду. Что, скашивая облака,
совпадает - чем бы не замели
следы - с ощущением каблука.
Да и глаз, который глядит окрест,
скашивает, что твой серп, поля;
сумма мелких слагаемых при перемене мест
неузнаваемее нуля.
И улыбка скользнет, точно тень грача
по щербатой изгороди, пышный куст
шиповника сдерживая, но крича
жимолостью, не разжимая уст.
Сретенье
Анне Ахматовой
Когда она в церковь впервые внесла
дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке храма.
Тот храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взоров небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.
И только на темя случайным лучом
свет падал младенцу; но он ни о чем
не ведал еще и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.
А было поведано старцу сему,
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: "Сегодня,
Реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
дитя: он - Твое продолженье и света
Источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в нем." - Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,
Кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.
И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена,
Мария молчала. "Слова-то какие..."
И старец сказал, повернувшись к Марии:
"В лежащем сейчас на раменах твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым
Терзаема плоть его будет, твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око".
Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле
Для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шел молча по этому храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.
И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога
Пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами храма.
Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,
Он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою
Как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.
* Датировано по переводам в SP и в PS. Примечание в SP: дата написания
стихотворения -- день рождения Анны Ахматовой. Датировка СИБ: март 1972
Е. Леонской
В воздухе - сильный мороз и хвоя.
Наденем ватное и меховое.
Чтоб маяться в наших сугробах с торбой -
лучше олень, чем верблюд двугорбый.
На севере если и верят в Бога,
то как в коменданта того острога,
где всем нам вроде бока намяло,
но только и слышно, что дали мало.
На юге, где в редкость осадок белый,
верят в Христа, так как сам он -- беглый:
родился в пустыне, песок-солома,
и умер тоже, слыхать, не дома.
Помянем нынче вином и хлебом
жизнь, прожитую под открытым небом,
чтоб в нем и потом избежать ареста
земли - поскольку там больше места.
Иосиф Бродский
- нобелевский лауреат и один из самых значительных и своеобразных русских поэтов.
Стихотворение «Письма римскому другу»
было написано в 1972 году. В заглавии указано «Из Марциала», но это не вольный перевод какой-либо из работ знаменитого древнеримского поэта Марка Валерия Марциала, а самостоятельное произведение по мотивам римской истории.
В стихотворении автор выступает в роли римлянина, живущего в эпоху правления Юлия Цезаря. Из текста стихотворения мы понимаем, что когда-то он жил в столице, знал лично сильных мира сего, но решил уехать в глухую провинцию. Всё, что связывает героя с прежней жизнью – это друг по имени Постум, которому он шлёт письма, рассказывает о своих буднях и расспрашивает о новостях.
Постум является вымышленным адресатом. Слово «постум» (лат. postumus - «посмертный») в Древнем Риме прилагалось к именам людей, родившихся после смерти своих отцов.
ПИСЬМА РИМСКОМУ ДРУГУ
из Марциала
Нынче ветрено и волны с перехлестом.
Скоро осень, все изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемены у подруги.
Посылаю тебе, Постум, эти книги
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?
Все интриги, вероятно, да обжорство.
Я сижу в своем саду, горит светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Ввместо слабых мира этого и сильных -
лишь согласное гуденье насекомых.
Здесь лежит купец из Азии, толковым
был купцом он - деловит, но незаметен.
Умер быстро: лихорадка. По торговым
он делам сюда приплыл, а не за этим.
Рядом с ним - легионер, под грубым кварцем.
Он в сражениях Империю прославил.
Столько раз могли убить! а умер старцем.
Даже здесь не существует, Постум, правил.
Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.
И от Цезаря далеко, и от вьюги.
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Говоришь, что все наместники - ворюги?
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.
Этот ливень переждать с тобой, гетера,
я согласен, но давай-ка без торговли:
брать сестерций с покрывающего тела
все равно, что дранку требовать у кровли.
Протекаю, говоришь? Но где же лужа?
Чтобы лужу оставлял я, не бывало.
Вот найдешь себе какого-нибудь мужа,
Он и будет протекать на покрывало
Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
"Мы, оглядываясь, видим лишь руины".
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.
Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.
Разыщу большой кувшин, воды налью им...
Как там в Ливии, мой Постум,- или где там?
Неужели до сих пор еще воюем?
Помнишь, Постум, у наместника сестрица?
Худощавая, но с полными ногами.
Ты с ней спал еще... Недавно стала жрица.
Жрица, Постум, и общается с богами.
Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.
Или сливами. Расскажешь мне известья.
Постелю тебе в саду под чистым небом
и скажу, как называются созвездья.
Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,
долг свой давний вычитанию заплатит.
Забери из-под подушки сбереженья,
там немного, но на похороны хватит.
Поезжай на вороной своей кобыле
в дом гетер под городскую нашу стену.
Дай им цену, за которую любили,
чтоб за ту же и оплакивали цену.
Зелень лавра, доходящая до дрожи.
Дверь распахнутая, пыльное оконце.
Стул покинутый, оставленное ложе.
Ткань, впитавшая полуденное солнце.
Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке - Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.
Иосиф Бродский
Иосиф Бродский читает "Письма римскому другу"
ИЗ ИНТЕРНЕТА
ЧИТАЕТ И.БРОДСКИЙ
Иосиф Бродский
«Письма римскому другу»
(Из Марциала)
Нынче ветрено и волны с перехлёстом.
Скоро осень, всё изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемены у подруги.
Посылаю тебе, Постум, эти книги
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жёстко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Всё интриги?
Всё интриги, вероятно, да обжорство.
Я сижу в своем саду, горит светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных –
лишь согласное гуденье насекомых.
Здесь лежит купец из Азии. Толковым
был купцом он – деловит, но незаметен.
Умер быстро: лихорадка. По торговым
он делам сюда приплыл, а не за этим.
Рядом с ним – легионер, под грубым кварцем.
Он в сражениях Империю прославил.
Столько раз могли убить! а умер старцем.
Даже здесь не существует, Постум, правил.
Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.
И от Цезаря далёко, и от вьюги.
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Говоришь, что все наместники – ворюги?
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.
Этот ливень переждать с тобой, гетера,
я согласен, но давай-ка без торговли:
брать сестерций с покрывающего тела
все равно, что дранку требовать у кровли.
Протекаю, говоришь? Но где же лужа?
Чтобы лужу оставлял я, не бывало.
Вот найдёшь себе какого-нибудь мужа,
он и будет протекать на покрывало.
Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.
Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.
Разыщу большой кувшин, воды налью им...
Как там в Ливии, мой Постум, – или где там?
Неужели до сих пор ещё воюем?
Помнишь, Постум, у наместника сестрица?
Худощавая, но с полными ногами.
Ты с ней спал ещё... Недавно стала жрица.
Жрица, Постум, и общается с богами.
Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.
Или сливами. Расскажешь мне известья.
Постелю тебе в саду под чистым небом
и скажу, как называются созвездья.
Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,
долг свой давний вычитанию заплатит.
Забери из-под подушки сбереженья,
там немного, но на похороны хватит.
Поезжай на вороной своей кобыле
в дом гетер под городскую нашу стену.
Дай им цену, за которую любили,
чтоб за ту же и оплакивали цену.
Зелень лавра, доходящая до дрожи.
Дверь распахнутая, пыльное оконце.
Стул покинутый, оставленное ложе.
Ткань, впитавшая полуденное солнце.
Понт шумит за чёрной изгородью пиний.
Чьё-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке – Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.
Иосиф Бродский
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку... (1970)
Книга: Иосиф Бродский. Стихотворения и поэмы
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно все, особенно -- возглас счастья.
Только в уборную -- и сразу же возвращайся.
О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.
Потому что пространство сделано из коридора
и кончается счетчиком. А если войдет живая
милка, пасть разевая, выгони не раздевая.
Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером
таким же, каким ты был, тем более -- изувеченным?
О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, боссанову
в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу.
В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной.
Ты написал много букв; еще одна будет лишней.
Не выходи из комнаты. О, пускай только комната
догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито
эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция.
Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция.
Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.
Рецензии
Мы боимся смерти, посмертной казни.
Нам знаком при жизни предмет боязни:
пустота вероятней и хуже ада.
Мы не знаем, кому нам сказать: "не надо".
Наши жизни, как строчки, достигли точки.
В изголовьи дочки в ночной сорочке
или сына в майке не встать нам снами.
Наша тень длиннее, чем ночь пред нами.
То не колокол бьет над угрюмым вечем!
Мы уходим во тьму, где светить нам нечем.
Мы спускаем флаги и жжем бумаги.
Дайте нам припасть напоследок к фляге.
Почему все так вышло? И будет ложью
на характер свалить или Волю Божью.
Разве должно было быть иначе?
Мы платили за всех, и не нужно сдачи.
Иосиф Бродский из «Песни невинности, она же - опыта»
Бродский в аэропорту «Пулково» в день эмиграции.
4 июня 1972 г.
Из архива М. И. Мильчика.
Нынче ветрено и волны с перехлестом.
Скоро осень, все изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемена у подруги.
Посылаю тебе, Постум, эти книги.
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?
Все интриги, вероятно, да обжорство.
Я сижу в своем саду, горит светильник.
Ни подруги, ни прислуги, ни знакомых.
Вместо слабых мира этого и сильных —
лишь согласное гуденье насекомых.
Здесь лежит купец из Азии. Толковым
был купцом он — деловит, но незаметен.
Умер быстро — лихорадка. По торговым
он делам сюда приплыл, а не за этим.
Рядом с ним — легионер, под грубым кварцем.
Он в сражениях империю прославил.
Сколько раз могли убить! а умер старцем.
Даже здесь не существует, Постум, правил.
Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.
И от Цезаря далеко, и от вьюги.
Лебезить не нужно, трусить, торопиться.
Говоришь, что все наместники — ворюги?
Но ворюга мне милей, чем кровопийца.
Этот ливень переждать с тобой, гетера,
я согласен, но давай-ка без торговли:
брать сестерций с покрывающего тела —
все равно что дранку требовать от кровли.
Протекаю, говоришь? Но где же лужа?
Чтобы лужу оставлял я — не бывало.
Вот найдешь себе какого-нибудь мужа,
он и будет протекать на покрывало.
Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.
Был в горах. Сейчас вожусь с большим букетом.
Разыщу большой кувшин, воды налью им…
Как там в Ливии, мой Постум, — или где там?
Неужели до сих пор еще воюем?
Помнишь, Постум, у наместника сестрица?
Худощавая, но с полными ногами.
Ты с ней спал еще… Недавно стала жрица.
Жрица, Постум, и общается с богами.
Приезжай, попьем вина, закусим хлебом.
Или сливами. Расскажешь мне известья.
Постелю тебе в саду под чистым небом
и скажу, как называются созвездья.
Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,
долг свой давний вычитанию заплатит.
Забери из-под подушки сбереженья,
там немного, но на похороны хватит.
Поезжай на вороной своей кобыле
в дом гетер под городскую нашу стену.
Дай им цену, за которую любили,
чтоб за ту же и оплакивали цену.
Зелень лавра, доходящая до дрожи.
Дверь распахнутая, пыльное оконце,
стул покинутый, оставленное ложе.
Ткань, впитавшая полуденное солнце.
Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
На рассохшейся скамейке — Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.
Анализ стихотворения «Письма римскому другу» Бродского
Творчество И. Бродского до сих пор воспринимается крайне неоднозначно. Одни превозносят его в качестве величайшего поэта современности, другие подвергают уничижительной критике. Главной причиной для негативных высказываний является туманный и грубый стиль поэта, использование нецензурной лексики. Критики считают, что такой язык никак не может считаться составной частью классического культурного наследия. В этом плане очень интересно стихотворение Бродского «Письмо римскому другу» (1972 г.). В нем поэт практически не использует сложные образы и символы. Произведение является спокойным размышлением автора, написанным простым и доступным языком.
В названии Бродский указывает на возможный перевод стихотворения («из Марциала»). Однако это не так. Оно является самостоятельным произведением. Поэт просто использует распространенный древнеримский жанр дружеского послания-размышления к близкому человеку.
Бродскому были близки древнеримские поэты, которые воспевали индивидуальную свободу творческой личности. При этом они чаще всего отрицательно относились к всемогущим императорам. Явно заметно сравнение Советского союза с Римской империей. Себя автор уподобляет римскому гражданину, который по какой-то причине находится в далекой провинции. Возможной причиной могут быть гонения властей.
Автор обращается к другу, оставшемуся в столице. В ироничных вопросах о состоянии Цезаря видны намеки на советского вождя. Коммунистическое руководство Бродский считает точной копией древнеримской верхушки общества. Власть двух величайших империй объединяют интриги и безумная роскошь.
Главный герой подчеркивает, что находясь вдали от столицы, он ощущает огромное спокойствие, которое позволяет ему предаваться философским размышлениям. Бродский никогда не скрывал, что ему незнакомо чувство патриотизма. Его совершенно не прельщало звание гражданина империи. В могущественной державе он стремится попасть на самую окраину, чтобы не испытывать на себе идеологическое давление. Автор выдвигает серьезное обвинение, направленное в первую очередь против Сталина, — «кровопийца». По сравнению с ним все мелкие руководители – просто «ворюги», с которыми еще можно как-то сосуществовать.
Бродского совершенно не заботят общегосударственные вопросы. Это ярко проявляется в замечании: «в Ливии… или где там? …до сих пор еще воюем?». Для него набрать воды для букета цветов намного важнее, чем международный конфликт.
В упоминании «наместника сестрицы» виден намек Бродского на тех людей, которые стремятся добиться расположения власти. «Общение с богами» он приравнивает к общественному уважению, которое ему глубоко чуждо.
Финал стихотворения описывает простую обстановку, окружающую добровольного изгнанника («пыльное оконце», «оставленное ложе»). Бродский изображает свое представление об идеальном образе жизни, которого он смог впоследствии достигнуть, покинув Советский союз.
Иосиф Бродский представитель творческого круга непризнанных в Советском Союзе поэтов, первые его стихотворения читатели смогли услышать и увидеть на страницах книг только к концу 80-х годов прошлого века.
Одним из таких стихотворений стали «Письма римскому другу» написанные поэтом в марте 1972 года. Всего в нескольких четверостишьях великий поэт современности напоминает людям о том, что жизнь обыденна и скучна, если тратить ее на созерцание мимолетной красоты людей, добывание земных ценностей, зыбкого положения в обществе, но может стать
Прекрасной и осмысленной, как только человек вспомнит о своем умении видеть красоту природы и окружающего мира.
В названии стихотворения добавлена строчка, указывающая в обычном сборнике на перевод, но на самом деле «Письма» не являются переводом стихотворения древнего поэта, скорее всего Бродский пытается уподобить свое творчество Марциалу, который также как и он высмеивал богачей, негу, лень и стремление выслужиться.
Уже от первых строк стихотворения веет грустью о былом, такую грусть навевает осеннее настроение, опустевшая скамейка, опадающая листва в саду, именно в это время главный герой, живущий
В глубокой и тихой провинции, начинает письмо своему другу, обитающему в далекой столице.
В письме он пытается убедить своего, по-видимому, богатого и близкого к власти друга в суетности и мимолетности мира, в том, что наблюдаемая им осенняя природа, смена времен года и облетающая листва куда важнее, чем женские взгляды и платья, примеряемые столичными модницами. Все они обманщицы и более одного взгляда от них добиться не удастся, тогда как природа честна и прекрасна.
Герой рассуждает о сильных мира и вопрошает у друга о положении Цезаря, под которым явно просвечивает имя современной ему власти, а также подчеркивает то, что интриги, плетущиеся при дворе известны всем, в том числе и ему, так мало ими интересующемуся, потому в ответном письме о них писать не стоит.
Центральной темой философских рассуждений поэта являются две эпитафии, одна из которых посвящена богатому купцу, а вторая легионеру. Первый всю жизнь свою провел в спокойствии и умер неожиданно, рассчитывая жить еще долгие годы, второй всю свою жизнь был на краю смерти, но умер от старости. Главный герой этими эпитафиями показывает своему другу и всем читателям стихотворения, что все на земле свершается по воле судьбы и человек, как бы осторожно он не относился к своему здоровью, жизни и благосостоянию смертен.
Каждого ждет своя участь, избежать, которой не получиться ни у кого, в том числе и у самого героя, который доводит свои письма практически до момента смерти. В предпоследнем письме герой просит друга приехать, выпить вина, поболтать в последний раз, советует ему поторопиться, поскольку смерть уже близка. Как заботливый и рачительный человек герой пишет другу также и о том, где припрятал деньги на похороны, которые советует пышно не отмечать, а истратить на гетер, они будут более всего скорбеть о своем постоянном госте.
Заканчивается стихотворение также как и начиналось, то есть с описания природы, но на этот раз без присутствия главного героя, он умер, оставив после себя пустую скамью и томик Старшего Плиния.